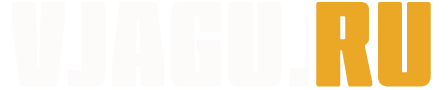EN
Объединенные псевдонимом Олег Ивик популяризаторы древней истории и археологии Ольга Колобова и Валерий Иванов в своем новом исследовании не дают ответа на вопрос, существовали ли в реальности так называемые амазонки. Авторы «Дочерей Ареса» сразу уточняют, что речь пойдет «не о женщинах, воевавших бок о бок со своими мужьями, не о царицах, возглавлявших мужские или смешанные армии, а о племенах, в которых женщины были единственной военной силой». Критик Лидия Маслова представляет книгу недели специально для «Известий».
Олег Ивик
«Дочери Ареса: История античных амазонок»
М.: «Альпина нон-фикшн», 2026. — 266 с.
Говоря о своей терминологии и методологии, Ивик разграничивает исторический и мифологический (то есть научный и литературно-художественный) взгляд на амазонок, а также отказывается от слова «мифический», обозначающего то, чего на самом деле точно не было (хотя, вот парадокс, даже «мифические личности порою прекрасно датируются и имеют привязки к реальной географии»). Оставляя сомнительным амазонкам шанс на существование, авторы «Дочерей Ареса» предлагают все-таки называть их существами мифологическими.
Дополнительный оттенок, который можно было бы назвать анекдотическим, история амазонок приобретает в завершающем книгу коротком довеске «Амазонская рота Екатерины II». Созданное в 1787 году в Крыму по инициативе светлейшего князя Потемкина дамское военное формирование под руководством первой в России женщины-офицера Елены Сарандовой Ивик сравнивает с пресловутыми потемкинскими деревнями. Основное, если не единственное, назначение «Амазонской роты» состояло в том, чтобы потешить императрицу, в разговоре с фаворитом игриво усомнившуюся в храбрости древнегреческих женщин. Главный акцент в описании крымских амазонок тогдашними журналистами делается на внешнем виде: наряд их составили «юбки из малинового бархата, обшитые золотым галуном и золотой бахромой, курточки из зеленого бархата, обшитые также золотым галуном; на головах тюрбаны из белой дымки, вышитые золотом и блестками, с белыми страусовыми перьями. Вооружение состояло из одного ружья и трех патронов пороху».
Арсенал древних амазонок был несколько разнообразнее: они использовали копья, луки, лабрисы, пращи, а в древних захоронениях, которые были идентифицированы как женские, обнаруживаются мечи и дротики. Однако относительной точности в определении пола скелетов археология достигла лишь в конце XX века, а до этого была слишком велика вероятность спутать мужскую могилу с женской на основании сопутствующих покойнику предметов и исходя из этого предположить существование изрядного количества боевитых женщин, бравших с собой в мир иной не только дамские аксессуары вроде зеркала и ложечки для косметики, но и оружие. Однако, когда антропологи более активно занялись вопросом половой принадлежности выкопанных останков, «выяснилось, что по крайней мере некоторые мужчины-савроматы тоже охотно смотрелись в зеркала, пользовались ложечками (хотя, возможно, и не для косметических целей) и, видимо, собирались делать это и в загробном мире».
В книге «Дочери Ареса» приводится множество упоминаний амазонок у самых авторитетных древних историков и писателей, включая Плутарха, Геродота, Эсхила и Еврипида. Амазонок видели и осязали многие мифологические герои и даже политические деятели. Тесей был женат на амазонке Антиопе, родившей ему сына Ипполита (который позже станет героем знаменитой трагедии «Федра»). А в IV веке до н.э., пишет Ивик, «мир потрясла сенсационная весть: царица амазонок Талестрис (Фалестрия) прибыла в ставку Александра Македонского, чтобы зачать ребенка от владыки ойкумены». По мнению авторов книги, историки и литераторы, скорее всего, выдумали эту историю, чтобы немного оживить биографию великого императора, слишком бедную романтическими приключениями.
Согласно легенде, Александр Македонский охотно пошел царице амазонок навстречу и выделил ей в своем плотном рабочем графике аж 13 дней, однако и это не помогло амазонкам в исторической (точнее, в мифологической) перспективе. Как свидетельствует древнеримский историк Помпей Трог, после встречи с Александром Талестрис «возвратилась в свое царство и в скором времени погибла, и вместе с ней погиб весь народ амазонок». Расцвет государственности амазонок, по мнению Ивика, пришелся на последние 100 лет перед Троянской войной и на саму войну, где амазонки выступали на стороне троянцев. Однако «после падения Трои мифологическая эпоха понемногу сходит на нет», и фактически под стенами Трои амазонки греческих мифов завершают свое активное существование.
Реставрация мозаики с изображением Александра Македонского
В мифологии амазонки традиционно считаются дочерями Ареса, бога войны, и нимфы Гармонии. Ивик слегка иронически проходится по Аресу, совсем не такому грозному и непобедимому, как принято считать: «…если отрешиться от высоких слов и внимательно рассмотреть реальную биографию Ареса, то он выглядит отнюдь не сильным воином и не «сверхмощным бойцом». Как ни удивительно, но его били все кому не лень — не только боги, но и люди. Например, в «Илиаде» описано, как этого бога посадили в бочку два юных хулигана…» Однако дочери Ареса неизменно характеризуются в различных источниках как барышни не просто решительные и отважные, но агрессивные и жестокие. Неоднократно упоминается в книге железное правило амазонок — девица не может вступить в брак, пока не убьет врага (а лучше трех). Ивик цитирует среди прочего поэму «Аргонавтика», автор которой Аполлоний Родосский искренне радуется за аргонавтов, которым по погодным условиям удалось избежать высадки на мысе Амазонок: «Если бы там задержались герои, то им бы случилась / Битва с толпой амазонок, и бой бы не был бескровным. / Ведь амазонки совсем не добры и не ценят законы».
С точки зрения исторической науки в качестве главных прототипов амазонок — а если допустить, то и реальных предков или потомков — предлагаются скифские и савроматские женщины: «…авторам и самим случилось раскапывать наполненный оружием курган савроматского воителя (воительницы?). Савроматы считались у греков прямыми потомками амазонок от их браков со скифами. А женщины савроматов, если верить античным авторам, отличались исключительной воинственностью». И всё же хронологические, географические и прочие расхождения в показаниях многочисленных свидетелей подвигов (или злодеяний) амазонок не дают полной ясности и позволяют лишь строить предположения о том, какой именно народ подразумевался под «амазонками» и где находилось военизированное женское государство: «Их помещали и в Малую Азию, и в причерноморские степи, и на берега Каспия, и на Кавказ, и в Родопские горы, и в Италию, и даже на северо-запад Африки. А если заштриховать на карте древнегреческой ойкумены все те местности, которые были якобы завоеваны амазонками, атакованы ими или попали в сферу их влияния, то белых пятен останется не так уж и много».
Но в любом случае без амазонок мифология была бы гораздо скучнее, и даже если они — романтическая выдумка, то очень эффектная, долгоиграющая и плодотворная в социокультурном отношении. Как только речь заходит о женской напористой самостоятельности и энергичной осознанности, тут же где-то рядом обязательно всплывет архетипическая амазонка (вспомнить хотя бы знаменитую польскую комедию «Сексмиссия», вышедшую в советский прокат под названием «Новые амазонки»). Самый мощный — правда, больше эмоциональный, чем рациональный — аргумент в пользу амазонок вынесен в эпиграф «Дочерей Ареса» и принадлежит древнегреческому историку Флавию Арриану: «Что вообще не существовало племени этих женщин, этого я не допускаю: столько и таких поэтов их воспевало!» Арриан не может представить, чтобы многочисленные стихотворцы дружно воспевали какую-то фикцию, но, немного зная поэтов и их нравы, с ним вполне можно поспорить.