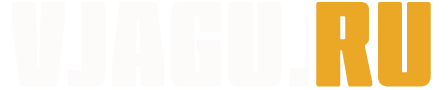EN
Следите за нашими новостями в удобном формате Есть новость? Присылайте!
Холсты с изображениями озер и закатов, акварельные панорамы Финского залива и настоящие корни из карельских лесов. Всё это можно увидеть в Музее петербургского авангарда (филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга) на выставке «Учиться у природы. Пейзажи Михаила Матюшина». Первая за много лет монографическая ретроспектива великого художника оказывается первой же попыткой показать всю эволюцию его творчества на примере одного жанра и одного собрания. Подробности — в материале «Известий».
Вспоминая авангард
В годы становления и расцвета русского авангарда — 1910–1920-е — имя Михаила Матюшина звучало не менее громко и весомо, чем имена Казимира Малевича и Василия Кандинского. Но уже со второй половины 1930-х на родине они были практически забыты, их находки названы заблуждениями, а работы спрятаны в запасники. Возвращение этого искусства к широкой публике началось сначала за рубежом и, разумеется, с творчества тех фигур, которые еще при жизни сумели заявить о себе в Европе. Матюшин, никогда не стремившийся за границу, оказался в тени.
Но и в новой России его наследие поначалу не вызывало широкого интереса. Дело и в сложившейся на Западе «табели о рангах», и, собственно, в самой специфике матюшинского искусства — не столь радикального и броского, как у автора «Черного квадрата», не столь масштабного по количеству и размеру произведений, как у Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова. Да, его вещи, конечно, выставляли, но в основном в составе групповых проектов.
Ситуация начала меняться лишь в последние годы. Художественные работы Матюшина стали всё чаще и чаще мелькать в выставочных залах, его музыкальные произведения (поскольку он еще и яркий композитор) — звучать на крупнейших сценах. Достаточно назвать премьеру научной реконструкции его оперы «Победа над Солнцем», состоявшуюся в Московской филармонии — ныне эта запись нон-стоп звучит на выставке-блокбастере «Наш авангард» в Русском музее. А когда минувшей весной в Центре «Зотов» с успехом прошла большая «парная» выставка Матюшина и его супруги Елены Гуро «Любовь в авангарде», стало ясно, что даже для широкой публики эти фигуры уже отнюдь не чужие.
Мостик к будущему
Теперь эстафету у Москвы принимает Санкт-Петербург. Однако выставка в Музее петербургского авангарда — он размещается в том самом доме, где и жил Матюшин, — со столичной не имеет ничего общего. Даже набор произведений не пересекается. В «Зотове» рассказывали историю любви, акцент был на личностях героев. У ГМИ СПб задача иная: показать со всей наглядностью, на примере одного жанра, как развивался стиль Матюшина: от ученических этюдов и до поздних экспериментов.
Некоторые полотна и ранее находились в том же доме — в составе постоянной экспозиции. Но спустившись из мемориальной мастерской художника на первый этаж, они обрели совсем иное «звучание». Прежде всего, это касается «Мостика» — одного из самых крупных, но в то же время и загадочных пейзажей Матюшина. До сих пор непонятно, в какой период он был создан: сведения разнятся, точной датировки нет. Хотя стилистика, явно вдохновленная французским импрессионизмом, убеждает, что это все-таки начало XX века.
Пышная, мерцающая в солнечных лучах листва молодых деревьев образует арку над уходящей вдаль лесной тропинкой. И та детальность, с которой написаны зеленые кроны, оказывается совсем нехарактерной для более поздней манеры живописца. На выставке пейзаж намеренно отделен от остальных картин, он оказывается своего рода увертюрой ко всему повествованию. И, конечно, сразу притягивает взор.
Как и скульптура из корней деревьев, которая возвышается в витрине. Раньше она стояла в упомянутой мастерской просто на полу — и вовсе не воспринималась как произведение искусства. Теперь этот арт-объект становится одним из центральных экспонатов: найденные Матюшиным в карельских лесах коряги прикреплены к подставке таким образом, что в их изгибах видится обобщенный образ танца.
В нарочито грубом, «приземленном», необработанном материале (даже кора здесь сохранена) Матюшин раскрывает невероятную внутреннюю пластичность, не вмешиваясь в саму исходную форму. В отличие от обычных скульпторов, он ничего не вытачивал, не выстругивал. Лишь обрезал найденные сучья, стремясь выявить динамику и художественность, заложенные в них самой природой.
Но не те же идеи, например, в его фотографиях? Снимок 1912 года «Корни-великаны», запечатлевший будто ползущие по песчаной насыпи «щупальца» могучих стволов, отпечатан для выставки в крупном формате (около метра в ширину) и размещен внизу, на уровне ног зрителя — как и полагается корням. А кадры с кронами деревьев, соответственно, возвышаются под потолком. И мы невольно повторяем направление взгляда самого художника.
Пейзаж со всех сторон
Впрочем, главное на выставке, конечно, живопись и графика. И они-то размещены как раз на уровне глаз, чтобы можно было рассмотреть изображения во всех деталях, без бликов и отсветов. ГМИ СПб обладает крупнейшей в мире коллекцией работ Матюшина, и многое из представленного публика видит впервые. В числе таких открытий — двусторонний пейзаж 1909 года. С обеих сторон холста — закатное (или предрассветное?) небо: разноцветные полосы, переходящие друг в друга. Но в первом случае композиция дополнена стогом сена. И это изображение ранее демонстрировалось. Оборот — никогда. Хотя он-то даже интереснее, поскольку вырывается уже почти за грань предметного искусства, предвещая будущие открытия, вплоть до знаменитого шедевра «Движение в пространстве».
Что касается графики, то и здесь есть неизвестные публике и даже специалистам произведения. Скажем, удивительная панорама Финского залива или карандашный набросок неба, парадоксально сочетающий реализм и абстракцию. Не обойдены вниманием и хрестоматийные вещи, например, поздний «Пейзаж. Вхождение сфер», где мириады разноцветных штрихов закручиваются в два гигантских вихря, встречающихся в метафизической бесконечности.
Природа для Матюшина — не только леса и озера, поля и горы, в общем — видимый физический мир. Это еще и «портал» в загадочное четвертое измерение, вибрации которого художник усматривал во всем сущем, в том числе и в естественных явлениях.
Работая на пленэре, Матюшин стремился развить в себе умение видеть пейзаж не только обычным зрением, но и затылочным, буквально всем телом «впитывая» то, что вокруг. Это вообще было одним из его принципов: всегда учиться, всегда постигать новое. Он и художником-то стал уже в весьма зрелом возрасте — когда ему было далеко за 30. Выставляться начал и вовсе после 45.
А в 48 дебютировал как композитор, освоив еще одну профессию. Кстати, изображения природы у него есть даже в музыке: на выставке можно послушать фрагмент сюиты «Осенний сон», где у автора встречаются «мотив звона кузнечиков», «мотив низко гудящего бурного ветра» и так далее.
Именно природа стала, пожалуй, его главным учителем, какой бы вид искусства он ни осваивал. К призыву Матюшина — «не подражайте природе, но учитесь у нее!» — и отсылает название выставки. Сам же он дает нам урок красоты. В эпоху революций, войн, социальных потрясений искусство живописца оставалось удивительно гармоничным, умиротворенным, какие бы стилевые метаморфозы (импрессионизм, кубизм, беспредметность, реализм…) не переживало. Может, поэтому оно сегодня и стало столь востребовано публикой?