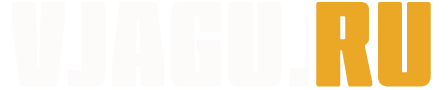EN
Недолгая и бурная жизнь, трагический финал — и, конечно, великие стихи. Такой образ Сергея Есенина знаком, вероятно, каждому россиянину со школьной скамьи. Но о том, что привело к вечеру в «Англетере», споры идут до сих пор. Психолог Алексей Филиппенков попытался расставить точки над i сообразно своей основной специальности. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели специально для «Известий».
Алексей Филиппенков
«Трагедия Сергея Есенина. Взгляд психолога»
Москва: издательство АСТ; редакция КПД, 2025. — 576 с.
Главной своей миссией автор новой книги о Сергее Есенине, психолог Алексей Филиппенков считает необходимость развенчать недобросовестные и недостоверные конспирологические теории о том, что настоящей причиной гибели поэта стал злокозненный чекистский заговор (один из главных оппонентов, с которым полемизирует Филиппенков — автор книги «Тайна гибели Есенина»). Если кратко резюмировать филиппенковские соображения, то он скорее склонен объяснять есенинскую трагедию не преследованиями и травлей со стороны «компетентных органов», а более прозаично, в не столь «детективном» ключе: изначально неудачной судьбой поэта, не получившего в детстве необходимой материнской любви и ласки, потом недостаточно обласканного славой в качестве безусловного гения (которым Есенин имел основания себя считать), ну и в довершение всего на болезненное тщеславие наложился алкоголизм, окончательно доконавший хрупкую есенинскую психику. Совокупность этих печальных обстоятельств, по мнению Филиппенкова, и привела к роковому исходу в номере гостиницы «Англетер» 28 декабря 1925 года.
Алексей Филиппенков, «Трагедия Сергея Есенина. Взгляд психолога»
Чуть ли не на каждой странице книги Филиппенко можно встретить горделивые обороты «я как психолог» или «мне как специалисту», обилие которых как бы не оставляет места для чисто человеческого сочувствия к герою книги — Есенин предстает тут нарциссичной, инфантильной личностью, с трудом выносимой современниками, друзьями и многочисленными женщинами. Более того, в некоторых рассуждениях психолога порой можно расслышать оттенок снисходительного осуждения в адрес патологически тщеславного и безответственного поэта, не сумевшего грамотно распорядиться своей жизнью и слишком обиженного на окружающий враждебный мир: «Оказавшись за границей, Есенин особо и не стремится работать на свой положительный образ. Еще несколько лет назад он выбрал для себя образ хулигана, который идет к славе через черный пиар. Тщеславие и жажда внимания превалируют над поэтическим наследием. Это его эмоциональное топливо, без которого он не может жить. При этом качество получаемого внимания Есенина особо не волнует. Главное в нем — это избыточность и стремление быть больше любыми способами. А это для меня, как для психолога, уже первые звоночки в понимании его возможной истероидности».
Эту центральную идею — что Есенина в конечном итоге погубило истероидное желание постоянно быть в центре внимания любой ценой — Филиппенков и проводит через всю книгу, где отсутствуют какие-то более тонкие нюансы, оттенки, полутона, которые позволили бы создать объемный портрет сложной поэтической натуры. Только когда предоставляется слово самому поэту — не только в стихах, но и в письмах, — можно догадаться, что Есенин был не таким уж примитивно устроенным существом, и дело обстояло не так элементарно просто, как уверяет нас Филиппенков, опирающийся в качестве главного научного авторитета на американскую неофрейдистку Карен Хорни (которую он чересчур восторженно записывает в «великие»). Ее описание невротической личности, обуреваемой хронической «базальной тревогой», один в один удобно накладывается на есенинскую манеру поведения: «Поскольку он живет в соревновательном обществе, то из чувства, что он находится в самом его низу, изолирован и окружен врагами (а у него именно такое чувство), у него может появиться только настоятельная потребность поставить себя над другими».
Поэт Сергей Есенин
Кроме того, важным методологическим инструментом Филиппенкова становится трансактный анализ с его разделением внутреннего мира любого пациента на «ребенка», «взрослого» и «родителя». С точки зрения этой концепции автор книги интерпретирует мучительные и бурные взаимоотношения Есенина с Айседорой Дункан: «В нем конфликтуют внутренний ребенок и взрослый. Поменять эту модель взаимоотношений и проявить внутреннего взрослого Есенин не в состоянии, так как Айседора имеет над ним власть и играет роль контролирующего родителя, а в самом Есенине доминирует эго-состояние ребенка».
С самого начала книги Филиппенков скромно отказывается от каких бы то ни было притязаний на литературность и упорно подчеркивает, что его главный козырь — прежде всего профессионализм психолога, хотя, как выясняется ближе к финалу, и психология далеко не всесильна по части объяснения самоубийственных человеческих поступков («А я, как психолог, много работавший с суицидентами, скажу, что в психологии нету логики»). Но иногда даже хладнокровного и отстраненного психолога может внезапно пробить на лирические красивости, скажем, в описании последней ночи Есенина: «Холодный зимний вечер окутал улицы Ленинграда. Порывы леденящего ветра пошатнули мрак над Исаакиевской площадью. Округа засыпает, покоятся в тиши перекрестки, смолкают проспекты. Лишь редкие извозчики подгоняют лошадей, исчезая в темных улочках. В пучине сумерек скрывается и гостиница «Англетер».
Комната № 5 в гостинице «Англетер»
Правда, для солидного психолога Филиппенков порой испытывает слишком пагубное пристрастие к кое-каким просторечным оборотам. Выражение «по-всякому» неоднократно всплывает у него по различным поводам и часто выглядит комично, привнося в интонацию книги что-то зощенковское, — например, в главах, посвященных героической борьбе одной из пассий поэта Галины Бениславской с есенинскими собутыльниками: «Галя характеризует Аксельрода по-всякому: гнусный, бессовестный, любитель сильных ощущений и бесплатной выпивки». Или: «Друзья Есенина угрожают Бениславской по-всякому». В конечном счете эти милые стилистические шероховатости и отступления от строгой научной лексики, пожалуй, придают суровому исследованию Филиппенкова хоть немного человеческой теплоты, благодаря которой «Трагедия Сергея Есенина» все-таки перестает быть лишь сухой историей болезни и позволяет разглядеть в поэте страдающую личность, а не только неизлечимого пациента-истероида, не справившегося с управлением собственной необузданной и эгоистичной натурой.