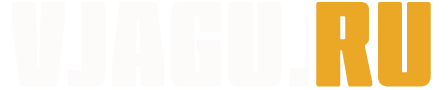EN
Тематику новой книги медиевиста и антрополога Владимира Петрухина вполне можно охарактеризовать как «инфернальную» — именно этот эпитет автор использует, вспоминая тему своей кандидатской диссертации «Погребальный культ языческой Скандинавии», которую он защитил в 1975 году на кафедре археологии истфака МГУ. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели — специально для «Известий».
Владимир Петрухин
«Погребальные обряды и культ предков»
Москва : МИФ, 2025. — 224 с.
Посвящая книгу памяти своих учителей и коллег, Петрухин во введении упоминает среди благословивших его старших товарищей знаменитого этнографа Сергея Токарева, чьи исследования погребального культа как ранней формы религии повлияли на подход Петрухина к интерпретации археологических находок. Так, Токареву принадлежит важная мысль о том, что всё разнообразие погребальных обрядов в истории человечества было связано с двумя противоположными тенденциями: «С одной стороны, это было стремление сохранить умершего предка вблизи коллектива, то есть законсервировать его тело в некрополе, могиле на стойбище и т.п. С другой — желание отправить мертвеца, а с ним и духов смерти в далекий загробный мир».
Владимир Петрухин «Погребальные обряды и культ предков»
Это амбивалентное отношение к покойникам, которые, с одной стороны, пугают, а с другой — если правильно с ними обращаться, могут выступать помощниками и покровителями для живущих, — одна из сквозных тем книги. В ней описано множество ритуальных способов поддерживать хорошие отношения с умершими родственниками, от которых человек зависит не менее (а то и более), чем от живых. Именно таков смысл поминальных обрядов, имеющий сходные черты у разных народов. Петрухин прослеживает параллели между культом предков у славян и индоевропейскими традициями, например поклонением питарам («отцам») в Древней Индии, где считалось, что «жертвоприношение ради мертвого, выполненное родственниками, есть основа для счастья умершего» (это цитата из священного индуистского текста «Гаруда-пурана»). Не конфликтовать с покойниками старались и римляне, к которым в календарные праздники приходили духи умерших — маны: «Их имя подразумевало «добрых» предков, хотя эти выходцы с того света могли оказаться также злобными. <…> В дни календарной активности предков семейство собиралось возле очага, а глава семьи ночью выходил из дома, чтобы бросить им горсть вареных бобов. Возможно, это «кормление» было в том числе оберегом от вторжения мертвецов, которым предстояло пересчитать рассыпавшиеся бобы».
Петрухин рассматривает множество мифов, окружающих смерть и погребальный обряд у разных народов, но как сотрудник Института славяноведения РАН отдельно учитывает славянскую фольклорную традицию с ее рассказами о живых мертвецах — вампирах или упырях. Из самых популярных культурных следов этой традиции исследователь прежде всего упоминает гоголевского Вия и графа Дракулу. На литературного Дракулу, прославившегося как обольститель женщин, похож упырь из сказки № 363 в знаменитом сборнике А.Н. Афанасьева. А в сказке № 367 обнаруживается аналогичный гоголевскому сюжет о находчивом солдате, которого оседлала ведьма, но все-таки была в итоге побеждена с помощью мудрого деда, раскрывшего секрет: чтобы одолеть выходца с того света, всё нужно делать наоборот, например пятиться от гроба задом.
Похожей магической логикой продиктован и обычай выносить покойника вперед ногами — чтобы ему не вздумалось вернуться в мир живых. Тем не менее о многочисленных подобных прецедентах идет речь в главе 9 «Выходцы с того света и встающие из могил», где Петрухин констатирует, что «бесчинства живых мертвецов» можно назвать повседневными реалиями всякого общества, верящего в загробную жизнь, несмотря на то что «беспокойный покойник», по выражению автора книги, такой же оксюморон, как «горячий лед». К счастью, в том, как успокоить беспокойных мертвецов, умилостивить усопших предков и уговорить их приносить пользу живым, человечество достигло изрядной изобретательности. Например, одним из эффективных способов сохранить рядом с собой благодетельного предка считалось создание для него нового, неразлагающегося тела — в виде урны или оссуария для костей: «Многие народы Средиземноморья и древней Европы часто придавали им антропоморфный вид или изготавливали в виде жилища. У многих народов вместилищами душ предков также считались специальные статуэтки — куклы».
Надежным вместилищем души в разных культурах всегда считалась голова, поэтому широко распространились обычаи ритуального хранения и использования черепов. «В Полинезии дух умершего вселяется в манекен, увенчанный его собственной высушенной головой, — рассказывает Петрухин. — После погребальных обрядов черепа помещают в домики мертвых и продолжают заботиться о них: приносят пищу, делятся с ними мечтами и планами и т.п.». Черепа с лицами, старательно восстановленными с помощью красок, глины, гипса и других подручных материалов, — один из древнейших известных археологам образцов портрета.
Бывает, что мертвые помогают рождению новых людей, например, суданские бокко имели обыкновение разрывать могилу предка через год после погребения, доставать череп и, помыв его, помещать в специальном домике, после чего к нему мог обратиться отец женщины, которая никак не может забеременеть: «Ты старый отец, ты уже давно умер. Ты родил меня до того, как умер. Теперь я родил дочь, она не имеет дитя. А ведь она замужем. Ты старый отец, и я прошу тебя, дай ей дитя». А в древнескандинавской «Саге об инглингах» рассказывается, как верховный бог Один пользовался забальзамированной головой невинноубиенного великана Мимира, беседуя с ней о судьбах грядущего, поскольку с того света покойный мог передавать ценные сведения, не известные другим богам.
«Кстати, здесь к месту будет вспомнить о судьбе лишившегося головы Берлиоза из знаменитого романа Михаила Афанасьевича Булгакова», — делится возникшей литературной ассоциацией Петрухин. Но кроме того, читая о культе черепов и его разнообразных, порой весьма изощренных вариациях, невольно вспоминаешь сленговое название родителей у советских подростков — «черепа». Эта забавная ассоциация ничуть не противоречит духу петрухинской книги, которая кому-то может показаться и инфернальной, и пугающей, но тем не менее заканчивается бодрой крылатой фразой из «Фауста» о сухой теории и вечно зеленеющем древе жизни.