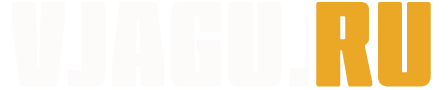Содержание:
- 1 «От Станиславского отказывались, над ним даже посмеивались»
- 2 «Я, открыв рот, сидел на репетициях Товстоногова»
- 3 «Очередь у театра выстроилась, как в советские времена в винный магазин»
- 4 «Во время бомбежки, спасая меня, бабушка была ранена в ногу»
- 5 «Историю лошади» с моей музыкой ставили даже на Бродвее»
EN
Худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский впервые получит престижную награду «Золотая маска». Народного артиста России будут чествовать 27 марта в профессиональный праздник на сцене ГАБТ вместе с Никитой Михалковым, Мариной Нееловой, Натальей Теняковой. Как говорит режиссер, профессиональному сообществу не хватает закона о театре и закона о меценатстве. Он считает, что в России есть театры-олигархи, театры среднего класса и театры-бомжи, но так быть не должно, а деньгами правительство должно помогать не самым богатым, а самым нуждающимся площадкам. «Известия» встретились с Марком Розовским и обсудили насущные и вечные проблемы сценического искусства.
«От Станиславского отказывались, над ним даже посмеивались»
— 27 марта, в День театра, в Большом пройдет церемония вручения специальных премий «Золотой маски» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства России». В числе лауреатов и вы. До этого вас или ваш театр отмечали «Золотой маской»?
— Нет, я не удостаивался этой награды.
— Как вы считаете почему?
— Ну не секрет: «Золотая маска» сегодня — премия обновленная. Может быть, поэтому я оказался среди тех, на кого она обратила внимание. Многие десятилетия «Золотая маска» концептуально не была национальной премией. Она превратилась в некий праздник для дилетантов.
А что такое дилетантизм? Он неминуемо ведет к шарлатанству. Это не мой вывод, Константин Сергеевич Станиславский и особенно Владимир Иванович Немирович-Данченко боролись с шарлатанством в театре. Это было 100 лет назад. В те же 20-е годы прошлого века был еще Мейерхольд. Крупнейшая, мощнейшая фигура русского и советского театра, ученик Станиславского и его эстетический противник. Но они существовали в едином театральном пространстве. Хотя если мы вспомним атмосферу того времени, уже тогда шла борьба с так называемыми мейерхольдиками.
— Тех, кто под него работал?
— Это были и подражатели, и люди, не имевшие культуры Мейерхольда. Всеволод Эмильевич знал мировую культуру, был человек феноменально образованный, понимавший комедию дель арте как никто. Он был действительно реформатором сцены. Мейерхольд создал знаковую школу условного театра в России. Но это не значило, что «театр представления» легко соединился с «театром переживания», который отстаивал Станиславский. Только теперь на пересечении этих двух направлений, мне кажется, существуют самые современные театры. Причем во всем мире.
— Остается ли сейчас простор для реформ?
— Однобокость, которую проявила, с моей точки зрения, «Золотая маска», и то, что она не поддерживала магистральный путь развития российского театра и русской театральной школы, — упущение. Психологический театр, например, подвергся страшным нападкам. Имя Станиславского было использовано многократно в каких-то странных целях. От Константина Сергеевича отказывались, над ним даже посмеивались. Это был признак агрессивного бескультурья, атака на живую традиционную культуру. А это те ценности, ради которых сотни талантливейших людей России служили искренне, мощно и глубоко.
Настоящей, большой культуре с ее фундаментальными ценностями, выработанными всем человечеством, причем не на протяжении какого-то там десятилетия или двадцатилетия, а на протяжении веков, — ей ничего не грозит. Но нападки в реальной, каждодневной и суетной театральной жизни на культуру — сплошь и рядом.
— А вам возразят, что это не нападки, а эксперимент. И эти деятели тоже имеют право на реформы.
— Что такое эксперимент? Это очень важно. Конечно, Мейерхольд очень много говорил об эксперименте и был сам великим экспериментатором. Но за этим экспериментом было мастерство, а когда дилетанты занимались под видом экспериментов своими, как говорится, играми, то это — деградация, подмена чего-то высшего, подлинного и действительно духовного.
Я помню время, когда над духовностью смеялись. И говорили, что это всё вне тренда, как сегодня бы сказали о направлении, куда шло искусство. В этом смысле «Золотая маска», с одной стороны, очень повысила планку. Но, простите за прямоту, после представлений соцреализма в 60-е годы, когда были потрясающие режиссеры-мастера, творящие всему вопреки, многие работы современников — вне искусства. Говорю об этом с горечью.
«Я, открыв рот, сидел на репетициях Товстоногова»
— Кого бы вы выделили из тех, кто творил в рамках соцреализма?
— Номер один — мой учитель Георгий Александрович Товстоногов в БДТ. Я, открыв рот, сидел на его репетициях. У него дома часами велись беседы о жизни, об искусстве. И я был дурак, что ничего не записывал.
Юрий Петрович Любимов, который на Таганке эстетически противостоял Товстоногову. Глыба. А еще Анатолий Васильевич Эфрос, Петр Наумович Фоменко, Марк Анатольевич Захаров. Они не только в 60-е годы творили, но и дальше. Это были высококлассные профессионалы. Ни о каком дилетантизме речи не могло быть.
— Что мешает нынешнему поколению режиссеров?
— Возникшая вседозволенность, отсутствие культуры. Что такое режиссерская профессия? Это умение служить глубинным смыслам и умение находить их при полном разнообразии и свободе форм изъявления. Разве не так? Но когда я вижу так называемую режиссуру, беспомощную, где главным оказывается выпендреж, мне больно.
— А как вы относитесь к раздеванию, мату на сцене? Это тоже проявление свободы?
— Вы знаете, вообще в театре возможно всё. И раздевание, и даже матерное слово, которое обогащает русскую речь. Наши классики, от Пушкина до Маяковского и далее, довольно часто прибегали к крепкому словцу. Но для чего? Для правды жизни — вот для чего!.. Ведь цель искусства — правда, не так ли?
Вахтангов задавался вопросами: ради чего ты идешь в профессию, ради чего ставишь этот спектакль, насколько ты его выстрадал, нащупал болевые точки, насколько ты честен? А когда правой рукой за левое ухо, лишь бы быть крутым… Каждый спектакль должен быть посланием этой самой правды.
Вообще что такое режиссер? Это создатель мира. Каждый спектакль твой должен быть священнодействием.
— Ну это вы по высшей планке берете.
— Только по высшей! Если ты не по высшей планке, иди к черту из профессии! В том-то и дело, что планка была занижена. Я всегда был за новаторство в театре. Ни в коем случае никакого ретроградства в моих словах нет. Но мы должны с некоторой горечью констатировать, что фундаментальные ценности искусства были частенько попраны, в буквальном смысле этого слова. И это очень помешало развитию театральной публики и самого театра.
— А вы до сих пор уверены, что это возможно?
— Безусловно. Нападение на культуру со стороны коммерческого искусства, развлекухи испортили нравы, потребности зрителей. Мы перестали отличать, где произведение искусства, что-то настоящее, с болью, а где подделка.
— Боль обязательна в театре?
— Без боли нет русского искусства. Это — аксиома, которую нам дали классики. А мы к этому относимся с пренебрежением. Разве не так?
«Очередь у театра выстроилась, как в советские времена в винный магазин»
— Департамент культуры Москвы ввел новые правила визита в театр. Билеты приобретаются по паспортам, на спектакль приходишь с документом. Это отвернет зрителя от театра?
— 15 марта, когда ввели новые правила, мы волновались, как на аншлаговый спектакль «Три мушкетера» быстро всех пропустим. Надо же было проверять документы. И очередь у театра выстроилась, как в советские времена в винный магазин. Это, конечно, нервировало. Но прошло несколько дней, и как-то всё стабилизировалось, никаких эксцессов.
Мы обратились в департамент, сказали, что не можем 200 человек в одну дверь запустить без опозданий. Попросили организовать еще один вход. Нам мгновенно помогли, за что им спасибо. Выделили средства на рамку-металлоискатель. Думаю, через несколько дней не будет никаких скоплений людей перед началом спектаклей на входе.
— Некоторые зрители боятся светить свои паспортные данные для покупки театральных билетов.
— Ну это другая проблема. Ведь как объясняется нововведение? Борьбой со спекулянтами. А на деле это борьба не столько со спекулянтами, сколько со зрителями. А с перекупщиками должна бороться полиция.
— Видимо, у культуры слабое лобби.
— Я не думаю, что лобби виновато. У нас вообще до культуры руки не доходят довольно часто. И самое главное — нет равенства в подходе.
Нашему профессиональному сообществу не хватает двух нормативных актов. Во-первых, закона о театре, где регламентировалось бы равенство институций. А то у нас есть театры-олигархи, театры среднего класса и театры-бомжи. На Руси был такой закон — помогать в первую очередь не богатым, а бедным. А у нас богатым дают больше, чем бедным.
— А во-вторых?
— Не хватает проработанного закона о меценатстве. Сейчас у нас лишь видимость его. Тот, кто вкладывает в культуру, должен освобождаться в какой-то мере от налогов.
— В отношении учреждений культуры используется термин экономистов «слияние и поглощение». Прославленные сцены объединяют. То, чем прежде руководили два-три человека, теперь должен управлять один. Нам рассказывают, что в культуре кадровый голод.
— Не только один худрук, но и одна бухгалтерия, один директор. Не мне судить об этом.
— Вас не собираются ни с кем объединять?
— Я в меру сил сам возделываю свой сад, как говорится. В стране 800 государственных театров. Ни в одной стране мира ничего подобного нет. С одной стороны, это наше сокровище, достижение.
— И тогда его должно поддерживать государство.
— Совершенно верно. Но реальность привела к тому, что театрам говорят — зарабатывайте сами. Правильно говорят. Но коммерциализация идет во вред искусству. Будем честны, средств не хватает. А какие цены на билеты в московских театрах!
«Во время бомбежки, спасая меня, бабушка была ранена в ногу»
— В некоторых театрах цены сравнимы с «Щелкунчиком» в Большом, где билет стоит 50 тысяч.
— Когда я узнал, что один билет — не в Большой — стоит 45 тыс. рублей, у меня волосы дыбом встали. А вы знаете, как начинался Московский Художественный театр?
— Как доступный.
— Общедоступный. Потом, правда, сняли эту вывеску. Потому что он стал театром интеллигенции. Театр живет и формируется вместе со страной. А сейчас еще назревает противоречие. Одни театры богатеют, их дотируют с размахом, а другие — экономят на всем. И это не зависит от заполняемости зала.
Театр «У Никитских ворот» даже во времена ковида демонстрировал совершенно фантастические результаты. Когда нам разрешали в зал пускать 30% публики и все сидели в масках, люди всё равно стремились в театр. Хотя для артистов было колоссальное психологическое испытание играть в полную силу для зала с пустыми местами. Может, это нескромно, но мы избалованы аншлагами.
— В ковид Владимир Машков в Театре Олега Табакова вышел из положения, посадив на пустые места манекенов. И когда артист смотрел в зал, ему казалось, что он полный.
— Молодец. Хороший режиссерский прием. Вы понимаете, артист, к сожалению, — это вторичная профессия, очень зависимая: от режиссера, от невеликой зарплаты. Я сейчас не беру звезд, которые живут в ином измерении. В театре «У Никитских ворот» артисты — работяги. У нас студийная первооснова. А это то, к чему стремился Станиславский. И я, как Константин Сергеевич, коллекционировал артистов. Подбирал одного к другому. Их индивидуальности взращивались здесь благодаря литературе, драматургии, над которой мы работали. И сегодня я располагаю феноменальной труппой, которой под силу решать, скажу без хвастовства, любые художественные задачи, которые я в силах перед ними поставить.
У меня другой путь. Я работал во МХАТе, БДТ. Передо мной открывались в то время двери всех театров страны. Мог получить работу почти везде, где хотел. Но решил создавать свой театр с нуля.
— Вы довольны своей труппой?
— Конечно. Владимир Юматов, который у нас в театре стал народным артистом России, много снимается, сейчас сочетает работу здесь и в «Ленкоме». Марк Захаров, с которым мы начинали вместе в театре МГУ, переманил его к себе, дал зарплату, которую мы не могли себе позволить.
Есть целая плеяда звезд нашего театра: народный артист России, лауреат Государственной премии Валерий Шейман, заслуженный артист Денис Юченков, моя блестящая воспитанница Яна Прыжанкова. А Юрий Голубцов был учителем истории, ныне заслуженный артист, ведущий актер и режиссер. Так же, кстати, как Игорь Скрипко, который попробовал свои силы в режиссуре и сделал спектакль по моей пьесе «Я — Майя», посвященный Майе Плисецкой. Постановка пользуется огромным успехом. Артист с могучим дарованием Александр Масалов играет в «Амадее» Сальери, роль, которую я делал во МХАТе с Олегом Павловичем Табаковым. Но Саша не подражает ему. Всех не перечислишь! Команда молодых очень сильна.
— Мало кто знает, но вы же еще композитор, пишете песни и исполняете.
— Я скорее напеваю свои песни, чаще в кругу друзей. У меня авторский театр и пение тоже авторское. Началось это, между прочим, с Товстоногова. Да и в студии «Наш дом» я сочинял, а мои друзья подбирали и записывали мелодии.
— А вы не знали музыкальной грамоты?
— Нет. Когда была война в 1944 году, моя бабушка повела меня в школу Гнесиных. Мне было семь лет. Я пел «Раскинулось море широко» и «Катюшу». А слушала меня сама Елена Фабиановна Гнесина. Выяснилось, что у меня абсолютный слух. Она сказала мне: «Деточка, дай лапку» (смеется). Взяла мою руку, потрясла кистью и сказала непонятную фразу: «Между пальцами расстояние хорошее. Фортепианный класс». И я два года учился в школе Гнесиных. К сожалению, пришлось прервать учебу. Жили мы в полуподвале. Инструмента не было, денег тоже. Бабушка болела. Во время эвакуации, спасая меня, она была ранена в ногу. Накрыла меня собой, уберегла от осколка. А так, может, я закончил бы школу Гнесиных и стал бы пианистом.
— А как вы оказались под бомбежкой?
— За пять дней до войны меня отправили на детский курорт в Анапу. Бабушка и мама у меня родом из этого города. В Москву мы смогли вернуться только через два года. Нас переправили в Среднюю Азию. Мы были беженцами. Чтобы вернуться в Москву, нужен был пропуск, а получить его было сложно. И вот когда ехали в эшелоне, поезд попал под бомбежку. И моя русская бабушка, спасая тщедушного ребенка, получила осколок в ногу. Может, он мне предназначался.
«Историю лошади» с моей музыкой ставили даже на Бродвее»
— Спектакль «История лошади» в БДТ с народным артистом СССР Евгением Лебедевым стал легендой. Вы поставили его и на своей сцене. А где еще шла «История лошади»?
— Спектакль имел бешеный успех и объездил мир. Когда привезли его на Авиньонский фестиваль, великий режиссер Питер Брук говорил зрителям перед началом своей постановки: «Пойдите, посмотрите, как русские Толстого играют». «Историю лошади» с моей музыкой ставили даже на Бродвее. Купили права через РАО и поставили мюзикл «Страйдер». Так что спектакль продолжает жить.
— Раньше американские театры приобретали права на постановку русской драматургии. А сейчас «отменяют» нашу культуру.
— А как можно без нее? Русская культура — самая мощная составляющая мировой культуры. Это смешно отрицать. Такого гигантизма в литературе, музыке, который продемонстрировали наши соотечественники в XIX, XX веках, не имеет ни одна нация в мире. Никуда они без нас не денутся.
— 3 апреля вам исполнится 88. Красивая дата. Как вы относитесь к возрасту?
— Ну если ее положить на бок, то две бесконечности. Пока ты живешь на белом свете, тебе хочется верить, что так будет всегда. Нет, так не будет всегда. Меня часто спрашивают: «Кто твой преемник?» Ну действительно, мне 88 лет.
— И?
— Я об этом не думаю. После ухода Товстоногова БДТ стал другим. После Мейерхольда, которого расстреляли, вообще не о чем говорить. Даже МХАТ после Ефремова, а потом после Табакова изменился.
— Каждый художник, приходя в театр, начинает создавать его под себя. Без оглядки на предшественников.
— А зря. Понимаете, тот же Мейерхольд ходил на все спектакли Станиславского. И Станиславский смотрел все спектакли Мейерхольда. Вы извините, я 42 года работаю в своем театре и смею думать, что в силу наших аншлагов и разнообразия репертуара мы можем быть кому-то интересны из коллег. Но у меня пальцев одной руки хватит, чтобы вам назвать фамилии худруков московских, которые бы знали, что творится в моем театре.
Мы очень разобщены. Это одна из бед, связанных и с коммерциализацией, потому что каждый старается найти свой путь к вершинам. И единение профессиональное сегодня не слишком ощутимо. Хотя «директорская ложа» пытается нас всех как-то объединить. А, условно говоря, «режиссерская ложа» в Москве отсутствует.
Мы можем быть разными и абсолютно непохожими друг на друга, но у нас должна быть профессиональная внутренняя тяга друг к другу. Мне кажется, она необходима.