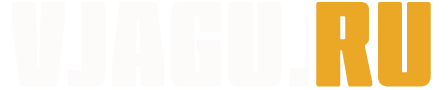EN
Пустыни и миражи, минареты и чайханы, раскаленные улочки южных городов и тревоги эвакуации. Выставка Третьяковской галереи «Путь на Восток» рассказывает о том, как русские художники открывали для себя Среднюю Азию. И как трансформировалась (а может, и формировалась) их манера под влиянием увиденного. Прежде всего это касалось авторов-авангардистов, но стилевой диапазон экспозиции куда шире: здесь встречаются Павел Кузнецов и Кузьма Петров-Водкин, Александр Волков и Сергей Герасимов. Чем оборачивается диалог культур и цивилизаций, выяснили «Известия».
Миражи и реальность
Средняя Азия для русских деятелей искусства всегда была чем-то манящим и притягательным и в то же время опасным и загадочным. Некоторые ездили туда в качестве туристов, а, например, Владимир Верещагин — с императорской армией (результатом стала знаменитая Туркестанская серия). Однако настоящее паломничество началось только в XX веке. Мирискусник Павел Кузнецов, посетив заволжские степи, Бухару и Самарканд, буквально обрел второе дыхание, открыл для себя новые творческие горизонты, а авангардисты Беатриса Сандомирская и Сергей Калмыков предложили оригинальную интерпретацию идей кубизма и супрематизма на, казалось бы, совсем чужеродной эстетической почве.
Выставка «Путь на Восток»
Выставка закономерно начинается с Кузнецова, и его полотно «Мираж в степи» (1912) оказывается чем-то вроде увертюры ко всему проекту. Немного упрощенные фигуры людей и верблюдов рядом с юртами выглядят совсем мелкими и незначительными на фоне огромного неба с расходящимися световыми полосами. И остается только догадываться, действительно ли художник запечатлел природное явление или перед нами метафора «волшебного Востока».
Впрочем, вещи Кузнецова неплохо известны, а вот «математическая живопись» Калмыкова для широкой публики точно станет открытием. Последовательности загадочных символов из нескольких палочек кажутся то ли детской игрой, то ли рунами древней цивилизации, но внимательный зритель заметит между крупными рядами еще и совсем мелкие цифры, пылающие темно-красным. Издалека, однако, они воспринимаются как арабская вязь. Восточная тема внезапно начинает звучать и здесь.
Реализм против авангарда
В начале 1920-х в Туркестане был создан филиал Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ) — кузница авангардистов. В то время у руля художественного процесса молодой советской страны оказались самые «левые» художники — Кандинский, Малевич и др. И они поставили задачу распространить передовые течения далеко за пределами двух столиц. Учить новые поколения должны были в ГСХМ, а ориентироваться предлагалось на работы, присланные из Москвы и Петрограда. Так русский авангард появился во многих регионах страны, в том числе и в Средней Азии (позже он станет основой музея в Нукусе). Плюс — начали формироваться местные художественные школы и традиции.
Картина Александра Волкова «Гранатовая чайхана»
Многие художники, получив образование в московском ВХУТЕМАСе, затем переезжали в Туркестан и оставались там навсегда. В первую очередь это Александр Волков, работы которого оказываются, пожалуй, самыми яркими экспонатами выставки. «Гранатовая чайхана» (1924) — безусловный шедевр. Изображая посетителей чайного дома, живописец соединяет кубизм и традиции иконописи, превращая трех мужчин в чалмах практически в Троицу. Особую силу образу придает «фирменный» рубиновый красный — цвет граната. Впечатляет и полотно «Слушают музыку» (начало 1920-х), благодаря специфическому коллажу разноцветных элементов напоминающее мозаику.
Кстати, наряду с холстами Волкова на выставке представлены его работы на бумаге. И среди них есть эскизы витражей: там уже фигуративность вовсе уступает место абстрактной игре форм, однако сохраняется та же экспрессия цвета и праздничная декоративность.
Картина Петра Котова «Бухарские мастера»
Ездили в Туркестан и реалисты. Их противостояние с авангардистами приобретало идеологическую принципиальность. Но — то слова, а на картинах мы видим ту же пестроту, декоративность, стремление к отказу от перспективы. Взять хотя бы «Бухарских мастеров» Петра Котова (1925), где пышные цветочные узоры на тканях явно доминируют над человеческими фигурами, или «Торжество ленинско-сталинской национальной политики» (1933) Николая Карахана. При всей политизированности сюжета это крайне интересная вещь: над братающимися «нацменами» возвышаются голосующие руки и огромное изображение Ильича, вероятно, вышитое на ковре.
На Восток от войны
Особая тема, которая тоже не осталась за кадром, — творчество художников, эвакуированных за Каспий во время Великой Отечественной войны. В этом и следующем месяцах многие музеи посвящают проекты 80-летию Победы, и у Третьяковки совсем скоро откроется экспозиция, целиком сфокусированная на событиях 1941–1945 годов, но «Путь на Восток» затрагивает этот сюжет с совершенно неожиданной стороны. Здесь, например, мы можем увидеть работы Сергея Герасимова, написанные в Самарканде. И это чистейший импрессионизм — воздушный, мимолетный, полный раскаленного южного воздуха и вместе с тем физически ощущаемой тревоги. Можно ли ожидать такой тонкой живописи от видного автора соцреалистических работ?
Посетитель на выставке «Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии»
Ну и еще один эвакуированный мастер, уже из иного, «авангардного» лагеря: Роберт Фальк. Тот же Самарканд, те же годы (1942–1943) — но иная манера. Хотя опять-таки нельзя не отметить, как среда повлияла на стиль. Работы, написанные им в Туркестане, заметно отличаются от его же вещей парижского и московского периодов. Сравнение Фалька и Герасимова кажется совсем не очевидным — тем интереснее.
Вообще на выставке хватает громких имен (помимо упомянутых, это еще Кузьма Петров-Водкин). Но подчас не меньший интерес представляют работы авторов, известных лишь специалистам. Таковы двусторонние левкасы Льва Крамаренко: русская иконопись (от нее — как раз техника) в них встречается с восточным колоритом персонажей и западной академической традицией. Таковы скульптуры Исидора Фрих-Хара и Зинаиды Баженовой. Из совсем неожиданных жанров в экспозиции — куклы Николая Шалимова и Василия Хвостенко, жутковатые персонажи с кубистически искаженными лицами. Сложно поверить, что они использовались для революционной агитации. Красноармейцы возили фигурки на туркестанский фронт и задействовали в кукольных спектаклях «Гидра контрреволюции» и «Корона и звезда».
Экспонаты выставки «Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии»
Соединяя виды искусства (к перечисленному можно добавить фотографии и кино), экспозиция соединяет и цивилизации, народы. Показывает, что при всей пропасти между ними этот союз может давать — и давал — удивительные результаты. А еще — отзывается уже в нашем времени, когда страна переживает новый поворот на Восток. Вопрос лишь в том, ждет ли нас в будущем такой же художественный всплеск, какой случился сто лет назад.