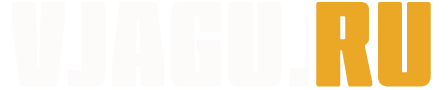EN
Кинокритик Станислав Зельвенский рассказал читателям о сотне самых значительных, с его точки зрения, фильмах ужасов в истории кинематографа — причем сделал это так, что иной читатель явно не удержится от смеха. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели специально для «Известий».
Станислав Зельвенский
«100 ужасов Станислава Зельвенского»
СПб.: «Подписные издания»; М.: «Кинопоиск», «Яндекс Книги», 2025. — 256 с.
Собрав в своей книге 100 довольно разных фильмов ужасов (хронология их выхода для ровного счета тоже занимает столетие — с 1922-го до 2022 года), кинокритик Станислав Зельвенский сетует в предисловии на изначальный порок популярного формата — списков всяческих greatest hits, в которых, как бы ни старался составитель-эксперт, на сторонний взгляд неизбежно обнаруживается отсутствие чего-то самого важного или присутствие совершенно не обязательного. Собираясь «сделать акцент на курьезном, недооцененном, незаслуженно забытом», автор «100 ужасов» вполне резонно объясняет, почему нет смысла включать в очередной сборник, например, хрестоматийный хичкоковский «Психо», давно обглоданный до скелета культурологами всех сортов: «В тысячный раз выкапывать труп мамы Нормана Бейтса — неспортивно и ни мне, ни другим не доставит никакого удовольствия».
Впрочем, знаменитые и влиятельные экспонаты из золотого фонда хорроров в книге все-таки представлены: без «Ведьмы из Блэр», к счастью, удалось обойтись, зато есть «Молчание ягнят», которое Зельвенский, по его признанию, стабильно пересматривает раз в пару лет. Но «статусность» фильма ничуть не влияет ни на объем посвященного ему микроэссе, ни на глубину анализа. Всем отобранным образчикам жанра уделено по три абзаца, кратко обрисовывающих сюжет, выжимающих смысловую и стилистическую квинтэссенцию, а в финале предлагающих афористично сформулированную философскую «мораль басни», ключевую реплику из фильма, отражающую его суть, а то и вовсе парадоксальное признание автора, почему он не смог устоять перед картиной не бог весть какого художественного уровня вроде «Людей-кошек» Пола Шрейдера: «Никому не придет в голову назвать «Людей» хорошим фильмом, но попасть под его чары даже проще, чем устроиться на работу в новоорлеанский зоопарк».
В этом смысле все отобранные фильмы — и всенародные хиты, и маргинальные произведения, знакомые только узким специалистам, — находятся в равном положении у демократичного Зельвенского, часто ориентирующегося не на объективные авторитеты, а на личную, субъективную «зачарованность». Поэтому часто узнать мнение автора книги про какой-то малоизвестный фильм гораздо интереснее, чем про то же самое «Молчание ягнят». На личный взгляд Зельвенского, «Молчание» с годами становится всё интереснее, «потому что разговор тут идет на самую горячую тему — вопросы идентичности. <…> «Молчание» предлагает уникально трезвый и тяжелый взгляд на предмет поиска себя и необходимой для этого трансформации: не только бедолага Буффало Билл, но и Старлинг пытается из уродливой личинки превратиться в бабочку».
Кадр из фильма «Молчание ягнят»
По контрасту с «Молчанием», обмусоленным множеством киноведческих идентичностей, одной из самых интригующих оказывается заметка о фильме Дэвида Прайора «Пустой человек» (2020) — она вызывает желание и правда посмотреть, что же такое было досадно пропущено и зрителями, и критиками на фоне ковидных конвульсий кинопроката. Теперь Зельвенский обращает внимание на этот фильм как на «один из самых оригинальных, умных и попросту страшных хорроров за много лет», хотя, честно говоря, немного настораживает мимолетная аналогия с «Матрицей», пусть и сформулированная не без изящества: «Антагонист здесь, почти как в «Матрице», — не монстр, хотя он тоже есть, а воображаемый порядок вещей, философская концепция, абстракция, ставшая реальностью, «ноосфера», отравленная идеей зла».
Кадр из фильма «Пустой человек»
Зельвенский в «100 ужасах» потихоньку плетет собственный внутренний сюжет, переходя от фильма к фильму не просто по алфавиту: это внешний, формальный принцип композиции, в котором те или иные фильмы соседствуют далеко не случайно и не только потому, что называются на одну или смежные буквы. Хотя, возможно, это только слишком апофеничный читатель сможет разглядеть глубокую смысловую взаимосвязь между «Ночью демона» Жака Турнёра, где главный триггер ужаса заключается в том, что герой узнает дату своей смерти, и украшающим следующую страницу «уникальным миксом итальянской замогильной эстетики и похоронного британского юмора» — черной романтической комедией Микеле Соави «О смерти, о любви». Идея этого фильма состоит, по мнению критика, в том, что «подлинная любовь возможна только на кладбище — как в метафорическом, так и в самом прямом смысле», а говоря о «нежнейшем поэтическом финале», Зельвенский трогательно завершает описание фильма словом «ня», которым передает свои мысли и эмоции один из персонажей, кладбищенский могильщик с задержкой в развитии.
Пожалуй, единственное, к чему хочется придраться в «100 ужасах» и на что тянет возразить, — это предсказуемые общетеоретические рассуждения о том, что жанр хоррора жив как никогда, потому что «окружающая действительность определенно не располагает к ромкомам». Во-первых, а когда она к ним, по большому счету, располагала? Во-вторых, с массовыми развлечениями вроде кино это, возможно, работает ровно наоборот: от геополитической турбулентности и апокалиптических предчувствий хорошо спрятать голову именно что в песок ромкомов или добрых сказок с песнями и танцами, а в застойно-тучные времена, когда «зона комфорта» слишком душным коконом обволакивает обывателя, хочется диссонансов, потаенных закоулков человеческой души, чего-то жуткого и щекочущего нервы, чтобы не удавиться от скуки.
В общем, все подобные вульгарно-социологические гипотезы стоят одна другой, но класс кинообозревателя определяется вовсе не умением их продуцировать (набить в этом руку как раз много ума не надо), а индивидуальной оптикой и умением отразить ее в остроумных комбинациях слов. А в этом у Зельвенского мало равных среди пишущих о кино по-русски, несмотря на всю его скромность, с которой он называет свой сборничек «книжицей», отказывается от претензий на членство в клубе настоящих, серьезных хоррор-фанатиков и декларирует лишь робкую попытку «заглянуть, расплющив нос о стекло, в этот волшебный мир, где с чердака доносится хохот, из подвала — бряцание цепей, по стене течет кровь и никогда не видать солнечного луча».