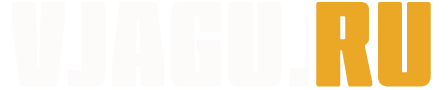EN
Впервые изданный роман Эдуарда Лимонова, рукопись которого долго считалась утраченной, написан в Париже в 1986 году и рассказывает о первоначальном этапе покорения столицы переехавшим из Харькова поэтом. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».
Эдуард Лимонов
«Москва майская»
М. : Альпина нон-фикшн, 2025. — 414 с.
В принципе, события «Москвы майской» позволяют указать даже точную датировку (18–20 мая 1969 года). Но, разумеется, действие происходит скорее во внутреннем личном хронотопе уже взрослого и состоявшегося писателя, который смотрит на себя 26-летнего иногда с отеческим умилением («Как быстро наш герой растет, как резво развивается»), иногда с тонкой иронией («Наш передовой, свежеприбывший из провинции поэт, как мы уже упоминали, стал на сторону самых передовых школ — сюрреализма и поп-арта»), но в любом случае без ложной скромности, хотя по разным поводам неоднократно называет себя «идиотом».
Эдуард Лимонов «Москва майская»
Кстати, из стихотворения Генриха Сапгира «Парад идиотов» Лимонов цитирует довольно большой кусок, который ему довелось прослушать в исполнении автора, волнуясь перед собственным выступлением. «Москва майская» вообще местами похожа на поэтический слэм, где лирический герой все время заставляет почувствовать атмосферу состязания и ревниво сравнивает себя с конкурентами: «Ему пришлось читать после Генрюши, что его не обрадовало, так как провинциал признал в нем сильного и умелого противника».
Разные поэтические авторитеты, от Арсения Тарковского до Александра Галича, проходят перед пытливым взором юного Эда (он сам иногда определяет себя как «юного» поэта, по сравнению к населяющими Москву мастодонтами), чтобы причудливо отразиться в его насмешливо посверкивающих очках, придающих лирическому герою обманчивый вид: «С весны 1967-го юноша стал носить очки в присутственных местах и на улицах, и очки придали его облику известную безобидность, какую обычно сообщают очки щуплому молодому человеку». Таких вербальных автопортретов в «Москве майской» много, и в них ощущается смесь самоиронии и нежности к себе когдатошнему: «Длинноволосый бледный юноша в лоснящемся на локтях и коленях черном костюме — поэт в героический период его жизни». Взрослый Лимонов словно удивляется тому, как Лимонов начинающий вообще смог приспособиться к этой жизни, где перед индивидуалистом стоит сложная задача — сберечь «свое теплое и красивое «я».
Сценарист, драматург, поэт и исполнитель своих песен Александр Галич
Это теплое лимоновское «я», похожее на новорожденного щенка (а целых восемь таких щеночков появляются в самой сентиментальной и трогательной сцене романа), при всей своей ненависти к социальному и коллективному, тем не менее чувствует потребность куда-то прибиться, ведь иначе не выжить. Именно поэтому лирический герой и отправляется в Москву, очарованный иллюзиями о том, что ему удастся найти друзей и единомышленников среди членов литературного объединения СМОГ: «Соблазненный все еще раскатывающимися по стране волнами слухов и легенд, живописно повествующих о многотысячных чтениях смогистов на площади Маяковского, в библиотеке Ленина, о неслыханной дерзости их, включивших в список литературных трупов даже модных тогда у советской интеллигенции Евтушенко и Вознесенского, и приехал наш провинциал в Москву».
Над своим юношеским слабовольным желанием согреться в поэтическом коллективе Лимонов образца 1986 года издевается беспощадно: «Наконец он примкнет к самой передовой молодежи своей страны. Наконец окажется в теплой и унавоженной почве». Но несмотря на тоску по дружеской теплоте сквозь провинциальные лимоновские очочки быстро оказывается очевидна поэтическая беспомощность прославленных столичных «смогистов», испорченных влиянием Пастернака: «Большой том стихов Пастернака в серии «Библиотека поэта» вышел в 1965-м. С предисловием проф. Синявского. В том же году проф. Синявского арестовали, и том подскочил в цене. Синий, труднодоступный том произвел на мягкие молодые души смогистов губительное впечатление. Пастернак с помощью Синявского совратил их поколение. Стихи большинства смогистов напоминают помесь гербарного определителя растений средней полосы России с пособием по занимательной метеорологии. Обильно каплет воск со свечей, бесконечно падают башмачки или иные балетные атрибуты под громы, грозы, ливни, метели, наводнения и другие слезоточивые явления природы…»
Студенты Литературного института им. А.М. Горького в перерыве между лекциями
Это противоречивое желание влиться в какую-то общность, чтобы тут же разложить ее на составляющие и убедиться, что она тебе не подходит, составляет эмоциональный и философский нерв «Москвы майской». Она интересна не только как портрет эпохи и определенной литературной среды, но и как взгляд индивидуалиста, забравшегося в самое сердце своей Родины — России, и почувствовавшего, что здесь он тоже чужой, «паршивая овца» (которая, однако, своей паршивостью только гордится). В середине романа есть очень кинематографичный «травелог», который мог бы стать украшением байопика о Лимонове, потому что наглядно передает не только отношение лирического героя к Москве и России, но и саму квинтэссенцию лимоновского мировоззрения, которое любит экстремальные точки: либо с самого дна, либо с высоты птичьего полета, но никак не со среднего уровня человеческого взгляда.
Свой концептуальный вояж по Москве провинциальный поэт начинает с рассуждения, где скрыта издевка над пошлостью туристического подхода: «Он не ощущал, что Москва — столица нашей Родины, довольно долго. Понимал, что да, но не ощущал. Ему бы с самого первого дня нужно было пойти, как делают простые люди, посетить Кремль, приблизиться к Царь-пушке и Царь-колоколу, побродить у тухлой Москвы-реки, съездить в Загорск, вглядеться в лики икон и даже — почему нет — спуститься под землю, в Мавзолей, поглядеть на забальзамированного вождя племени. Ведь именно эти, казалось бы, вульгарно-открыточные пошлости и возвышают Москву в столицу Союза Советских, всея Руси».
Дальнейшие поиски Родины приводят «Эдуарда, не помнящего родства», в ГУМ, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Елисеевский гастроном («где хорошо пахло кофе и селедкой»), Центральный рынок на Цветном бульваре, где эстетически чуткий поэт придирчиво выбирает, что из этих локаций можно признать частью Родины, а что — не дотягивает.
Красная площадь вечером 1986 года, Москва
Оказавшись в какой-то момент в холмистом Кремле и осмотрев «прославленный колокол», похожий «на буддийскую ступу», а также Колокольню Ивана Великого, собирающуюся упасть, как Пизанская башня, впечатлительный провинциал вдруг взмывает с Красной площади «на воображаемом мгновенном летательном аппарате (нечто вроде геликоптера, но передвигающемся со скоростью воображения)» и на протяжении боя курантов успевает облететь всю Россию, поразившись ее габаритам: «Большая, — подумал он, — какая большая!» И понял, что думает о ней — стране, но не Родине. В большой — неуютно, могущественно и страшно. Если б она была маленькая — была бы мне ближе. А так, что делать? Жить со всею ею? Хорошо и легко жителю княжеств Люксембурга или Андорры. А с этой… Поноси-ка в себе всю эту коллекцию минералогий, рельефов и климатологии. А пейзажей сколько!»
Последний московский пейзаж, предъявленный уже в эпилоге, — телевизионная картинка: «Москва? Все так же стоит на полянке на берегу реки шоколадный торт Кремля. Автор видел по «тиви», — иронизирует парижский космополит Лимонов, в 1986 году еще не предвидевший, что все-таки именно Москва даст ему последний приют.