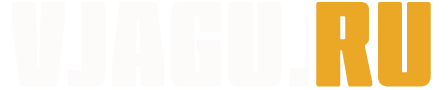Во вступлении к своему исследованию «Войны и мира» Вячеслав Курицын делится воспоминанием, как впервые наткнулся на толстовский роман в восьмилетнем возрасте и был поражен удивительным миксом русского и французского языка на первых же страницах. Тогда впечатлительный ребенок мало что мог понять из странной книги, но ощущение ее «диковинности» поразило будущего филолога навсегда и за прошедшие полвека ничуть не померкло, а вылилось в этот объемистый том. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».
Вячеслав Курицын
«Главная русская книга. О «Войне и мире» Л.Н. Толстого»
М.: «Время», 2024. — 400 с.
Теперь-то, конечно, опытный исследователь владеет довольно изощренным инструментарием, позволяющим приоткрыть кое-какие тайные пружины этой причудливой конструкции, показать читателю «внутренний ландшафт» толстовского текста: «подводные течения и ритмы, зоны сгущения, невидимые регистры и волны и, конечно, переключатели скоростей». Не претендуя на то, что «Война и мир» открылась ему в «истинном свете» (не факт, что такое вообще возможно даже в результате многолетнего перечитывания в пределах одной человеческой жизни), Курицын пытается подарить читателю возможность увидеть толстовскую эпопею «всю сразу, как скульптуру, которую не обязательно воспринимать «подряд», главу за главой, а можно ходить вокруг нее, наслаждаясь новыми и новыми ракурсами. Тогда и смыслы, кстати, прилетят и сядут каждый на свою ветку».
Помпезное слово «эпопея» исследователь использует лишь изредка, чисто для лексического разнообразия, предпочитая называть «Войну и мир» просто книгой, а еще чаще, с нескрываемой нежностью — книжкой. Есть что-то трогательное, парадоксально-нежное и в том названии, которое использовал применительно к своему детищу сам Лев Толстой, писавший А. Фету 23 января 1865 года, за две недели до первой журнальной публикации «Войны и мира» в «Русском вестнике», что его новая вещь — «длинная сосиска, которая туго и густо лезет». Об этом Курицын рассказывает в первой части книги (где подробнейшим образом разбираются первые шесть глав), немного смущаясь грубоватостью толстовской «мясокомбинатной» ассоциации и подумывая, что тут просится метафора более техническая («что-нибудь с рычагами, с механизмами»), но слова «туго и густо» одобряет как точные: «Мы имеем дело с громоздкой динамической конструкцией, которая упрямо продвигается вперед, но со спазмами, со спотыканиями, ибо от души нафарширована внутренними движениями в разных направлениях».
Впрочем, сравнение «Войны и мира» с густо лезущей сосиской, как замечает Курицын где-то в середине книги, «не единственный шедевр в жанре смелых уподоблений». Еще один принадлежит Константину Леонтьеву, смотревшему на «Войну и мир» как на ископаемого сиватериума, «которого огромные черепа хранятся в Индии, храмах бога Сивы. И хобот, и громадность, и клыки, и сверх клыков еще рога, словно вопреки всем зоологическим приличиям».
Грандиозность этого зрелища Леонтьев дополнил еще одной шикарной метафорой: «Или еще можно уподобить «Войну и мир» индийскому же идолу: три головы, или четыре лица, и шесть рук! И размеры огромные, и драгоценный материал, и глаза из рубинов и бриллиантов, не только подо лбом, но и на лбу!!» Леонтьевского сиватериума Курицын остроумно запрягает для своих разных нужд, показывая, как «в движении этой прекрасной твари одновременно происходят десятки разного рода сбоев и замыканий», и развивая тему сбитого ритма толстовского повествования: «Постоянные замирания, локальные выключения, оцепенение тех или иных героев — непросто идется сиватериуму с бриллиантовыми клыками».
Л.Н. Толстой
Непросто приходится и читателю толстовского романа, как поясняет Курицын в главе «Несколько слов о смысле названия «Война и мир»: «…в названии книги обозначены ее «темы», но, прочитав двадцать пять глав, мы увидели, что это и ее устройство. Устройство отдельных глав, сочетания глав, устройство сцен, большинство разговоров — всё работает в режиме наката-отката, атаки-защиты. Если в какой-то ситуации один герой другого превзошел, что-то у него выиграл, то в следующей ситуации проигравший норовит отыграться. Препятствия постоянно встают на пути героев, читателей и, кажется, самого текста». Классифицируя роды и виды всевозможных препон, старательно разбросанных Толстым повсюду («не только под ногами персонажей, но и внутри, в их умах, телах и сердцах»), Курицын находит им философское оправдание: «В книге постоянно всплывает идея, что препятствие, вообще говоря, — необходимое условие осмысленного движения, условие самой жизни. В голове Пьера как будто свернулся главный винт, вертелся всё на том же нарезе, ничего не захватывая: винт крутится беспрепятственно, и это пустое движение. Его друзья-масоны провозглашают целью жизни самосовершенствование, которое достигается только борьбой. <…> Армия Наполеона, не встречая сопротивления, слишком растянулась, что и становится причиной ее погибели».
Именно обилие текстуальных препятствий, осложняющих чтение (странности внутренней хронологии, ритмические фокусы, разный жанровый и стилистический характер разных участков текста, где вообще иногда вместо слов вставлены длинные строки-многоточия, постоянная смена точек зрения и расслоение рассказчика) превращает «Войну и мир» в такой увлекательный аттракцион, в своего рода литературный луна-парк с качелями-каруселями, катапультами и русскими горками. А главный секрет притягательности и жизненности «Войны и мира» Курицын усматривает в том, что Толстой создал ее по человеческому образу и подобию: «Война и мир» устроена как человек — рефлексирующий человек, который переживает внешние и внутренние противоречия, пытается ответственно смотреть на себя со стороны, удивляется, как на фоне бесконечно разнонаправленных чувств, эмоций и интересов личность всё же сохраняет единство, а жизнь ухитряется продолжаться. Уровни нашей личности и пласты реальности столь многочисленны, разноприродны и иной раз враждебны друг другу, взаимодействие их столь затруднено, что, казалось бы, эта машина не должна работать — но почему-то работает».
Сформулировав эту основную мысль своего исследования, Курицын, однако не ставит точку, а переходит, как он предупреждает, к «самой скучной главе», посвященной анализу огромного философского эпилога «Войны и мира», который большинство читателей пролистывает. Оно и теперь может воспользоваться любезным курицынским предложением сразу перескочить в конец главы, где суммируются итоги. Но перед этим все-таки имеет смысл понаблюдать, как Курицын выступает по отношению к Толстому в качестве своего рода «следователя», упорно, но тщетно старающегося «расколоть» Льва Николаевича на какие-то непротиворечивые истины насчет мироустройства и законов исторического развития. В итоге филолог вынужден смириться и отпустить поводья своего верного сиватериума, который пригождается на этот раз уже в виде целого термина «сиватериумность», обозначающего структурную сложность «Войны и мира»: «Всё это не столько философия, сколько подделанный под философский стиль кунстштюк, который не отваливается от «Войны и мира», а гармонично в книжку вписывается, ибо соответствует структуре романа в целом, его принципиальной сиватериумности».
Неуклюжий, громоздкий и спотыкающийся, но чудовищно прекрасный сиватериум помогает Курицыну оправдать и облагородить даже такой возмутительный, часто расстраивающий романтичных и прогрессивных читательниц момент, как финальная трансформация «обабившейся» Наташи Ростовой: «В «Войне и мире» превращение воздушной самки в тяжелую самку — героическая попытка автора остановить барабан противоречий, гармонизировать движение космических пластов, показать красоту движения сиватериума: звучит абсурдно, но ведь удалось, карнавал принципиальных несводимостей свелся в книгу, заставляющую любить жизнь и плакать на освещенном весенним солнцем полу домашней библиотеки хоть в Огайо, хоть в Костроме».