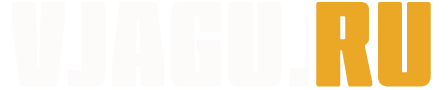Первая биография Альбера Камю, переведенная на русский, — далеко не первое обращение к жизни и творчеству французского экзистенциалиста для американского историка Роберта Зарецки. В прологе он признается, что остался недоволен своей предыдущей книгой «Альбер Камю: стихия жизни» (Albert Camus: Elements of a Life), построенной вокруг четырех ключевых моментов биографии героя: «Увлекшись историческим контекстом, я обделил вниманием определенные интеллектуальные и моральные темы, которые мы привыкли ассоциировать с творчеством Камю». Теперь Зарецки исправляет недочеты и делит свою новую книгу на пять глав, в соответствии с пятью принципиальными для Камю понятиями, «инструментами для поиска того, чтó есть жизнь, которую стоит прожить»: абсурд, молчание, мера, верность и бунт. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».
Роберт Зарецки
«Жизнь, которую стоит прожить. Альбер Камю и поиски смысла»
М.: Individuum, Эксмо, 2024. — пер. с англ. Н. Мезин. — 224 с.
В главе «Абсурд» в центре внимания исследователя — программное эссе 1942 года «Миф о Сизифе». В самом начале этой главы Зарецки принимается шаг за шагом выстраивать образ Камю как мыслителя слишком своеобычного и обособленного, чтобы ему удалось избежать непонимания или даже агрессии окружающей интеллектуальной среды. На эту идею отдельности Камю работает и сам факт его рождения в Алжире, в нищей рабочей семье «черноногих» (прозвище иммигрантов, в XIX и XX веках переселившихся во Французский Алжир из Европы, чтобы стать гражданами Франции).
Это обусловило непреодолимую мировоззренческую дистанцию между Камю и французским интеллектуальным истеблишментом вроде Жана-Поля Сартра (их бурный идеологический и личный разрыв с Камю Зарецки разбирает довольно подробно): «Немногие писатели испытывали такие сложные чувства по поводу своей личной и национальной идентичности, как Альбер Камю. <…> Этот черноногий из рабочего класса, чьи надежды и опыт столь резко отличались от тех, что были у его парижских друзей, ценил что-то еще, более глубокое, имеющее общечеловеческое значение, а именно — поиск смысла в мире и в нашей жизни».
Вот и такой авторитет, как Андре Мальро, редактор издательства «Галлимар», высоко оценивший дебютный роман Камю «Посторонний» 1940 года, совершенно не понял «Мифа о Сизифе», сочтя его натужным и путанным сочинением, где в первых строчках проблема самоубийства дерзко объявляется единственной по-настоящему важной философской проблемой: «Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, — значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Всё остальное — имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями — второстепенно». Однако «Сизиф» совершенно не о суициде, растолковывает Зарецкий ошибку Мальро, а об абсурде человеческого бытия в «мире, вдруг лишенном иллюзий и света», когда самоубийство внезапно начинает казаться единственным возможным выходом из печальной и безвыходной человеческой ситуации.
Для Камю идентификация с героями греческой мифологии (кроме Сизифа, его любимцем был и Прометей), вероятно, служила одним из способов купировать постоянно мучившее его ощущение бессмысленности существования и абсурдности мироустройства. Его лирический герой, подобно Сизифу, каждый день начинает заново изнурительный поиск аргументов в пользу дальнейшего продолжения жизни (quest for meaning, как это сформулировано в оригинальном названии книги Зарецки). «Шла ли речь об охваченном войной Алжире или о лишенном смысла мироздании, Камю спешил за помощью к грекам в надежде, что они выведут его из тупика», — объясняет Зарецки любовь Камю к античности и находит прямые аналогии между его общественно-публицистической деятельностью и мифологическими сюжетами:
Автор цитаты
«К 1950-м годам Камю напоминал своего мифического героя Сизифа, но был навечно связан не с горой, а с трагической безысходностью сопротивления Алжира иностранной — французской — оккупации. Много лет Камю бился над решением, которое принесло бы справедливость и арабам, и поселенцам, рисковал жизнью в поисках этого невозможного примирения. Он потерпел неудачу и замолчал — и хранил молчание до самой смерти в 1960 году»
По мнению Зарецки, алжирская война стала для Камю «трагедией, в которой какие-либо дальнейшие слова будут хуже, чем бесполезные, потому что, бессильные остановить катастрофу, они только затеняют ее размах и значение».
Главу «Молчание» биограф начинает с рассказа Камю о его появлении на свет, которым открывается последний и не завершенный автобиографический роман «Первый человек», посвященный самым ранним алжирским впечатлениям. Один из выразительных штрихов к характеру лирического героя, с детства полюбившего ревущий и бушующий внутри него ветер, встречается в эпизоде, где школьники играют с пальмовыми ветвями на продуваемой пустынным ветром террасе.
Cизиф
Комментарий к этой игре Зарецки делает заключительной фразой своей книги: «В этом образе я неизменно представляю Камю счастливым». Такая благостная кода оставляет читателю надежду и утешение: жизнь, хоть и упорно не дает ответа на роковой вопрос о смысле, иногда позволяет человеку передышку в его изнурительном вопрошании. Каким бы сложным ни представал человек в своей умственной деятельности, какие бы противоречивые устремления ни раздирали его душу (об этом подробно пишет Камю, в частности, в «Размышлениях о гильотине»), но где-то на базовом биохимическом уровне он, в сущности, устроен довольно просто. Достаточно измученному борьбой с действительностью и туберкулезом нобелевскому лауреату немного погреться на ласковом алжирском солнышке в местах своей юности — и экзистенциальное отчаяние утихает, а воля к жизни возвращается.
Вчитываясь в некоторые поэтические пассажи Камю, поистине стихотворения в прозе, такие, как эссе «Возвращение в Типаса», с тихим умилением отмечаешь, что даже одному из ведущих интеллектуалов Европы, которого называли совестью Запада, бывало совсем немного надо для счастья: послушаешь «неумолчное басистое воркование птиц, легкие, короткие вздохи моря, плескавшегося у скал, шелест деревьев, немую песню колонн, шуршание полыни и скольжение ящериц» — и вроде отпускает, несмотря даже на то, что смысла в окружающем абсурдном мире ничуть не прибавилось.