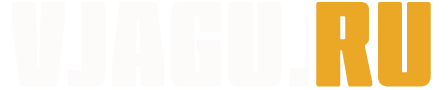EN
Жанр научной фантастики, одно время сильно сдавший перед социальными антиутопиями и многотомными фэнтези-сагами из жизни несуществующих народов Севера, снова, похоже, возвращается к читателю. Новый роман Эдуарда Веркина исследует традиционную для фантастов со времен Уэллса тему будущего — критик Лидия Маслова представляет книгу недели специально для «Известий».
Эдуард Веркин
«Сорока на виселице»
Москва: «Эксмо», 2025. — 512 с.
Определить время действия «Сороки на виселице» удается не сразу, но ориентировочно это примерно середина XXIV века, судя по косвенным, «библиографическим» признакам — датировке упомянутых в тексте книг. Книги и те, кто с ними так или иначе работает, имеют важное значение во многих веркинских сочинениях. На этот раз библиотекарь Мария — единственный женский персонаж из семи центральных действующих лиц (не считая домашней пантеры-репликанта по кличке Барсик), которые томятся на далекой планете Реген в ожидании заседания Большого Жюри. Оно иногда собирается в случае острой необходимости для решения вопросов, определяющих судьбу всего человечества. На этот раз ему предстоит разобраться с синхронной физикой — амбициозной наукой, обещавшей решение чуть ли не всех проблем покорения космоса. Но теперь управляющий ойкуменой Мировой Совет «в шаге от того, чтобы признать синхронную физику тупиковой ветвью развития физики пространства».
Формируется Жюри по самым демократическим принципам: в него входят шесть всемирно признанных авторитетов в разных областях и шесть обычных людей, выбранных случайно. Одним из них становится лирический герой-рассказчик Ян, молодой спасатель туристов на земном плато Путорана. Выдержав психологический прессинг отца и брата-близнеца, считающих Яна недостаточно ответственным для возложенной на него миссии, герой, познакомившись по дороге с Марией и бортовым врачом Уэзерсом, прибывает на Реген и встречается с остальными действующими лицами. Это молодой гений синхронной физики и неистощимый шутник Уистлер, координатор Жюри экономист Шуйский, главный противник синхронистов Кассини («энциклопедист, интриган и скептик») и директор Института Пространства Штайнер.
Эдуард Веркин, «Сорока на виселице»
Атмосфера в Институте Пространства, наполненная философскими стычками и эксцентричными выходками некоторых персонажей, местами напоминает бесконечные дискуссии обитателей станции «Солярис» в романе Станислава Лема. Правда, никакие «гости» — фантомы из прошлого к героям «Сороки…» не наведываются, и материализации чувственных идей, сопряженных с угрызениями совести, как у бедного Криса Кельвина, с ними не случается. Но все-таки хватает искажений восприятия и причудливых спецэффектов, которые Мария описывает как «странные происшествия, необычные люди, навязчивые дежавю, небывалые совпадения…» Например, в романе три раза, с некоторыми вариациями, повторяется одна и та же сцена, с каждым разом приобретающая всё более сновидческий характер, — прогулка Яна и Марии к построенному синхронными физиками для своих экспериментов «актуатору потока Юнга», и по галлюцинаторной зрелищности эта тройная экскурсия ничуть не уступает лемовским описаниям видений, порождаемым Океаном Соляриса.
«Поток Юнга», на исследованиях которого сосредоточены синхронные физики применительно к путешествиям в дальний космос, — одно из ключевых понятий «Сороки на виселице». Концепция синхроничности, принадлежащая классику психоанализа Карлу Густаву Юнгу, подробно разъясняется в написанном Веркиным несколько лет назад для сборника «Футуриада» рассказе с искусствоведческим названием «Девушка с жемчужной сережкой», где герой придает «полумагической» синхроничности Юнга более объективный характер, констатирует ее существование помимо человека и его сознания: «Полумагическое смысловое поле, которым оперировал Юнг, есть поле, без сомнения, физическое. Даже не поле — скорее, канал. Поток».
Питер Брейгель – старший, «Сорока на виселице»
Роман «Сорока на виселице» тоже назван в честь известной картины — Питера Брейгеля – старшего. Из брейгелевского полотна вырезана для веркинской обложки виселица с птичкой наверху и наклеена на звездное небо — на этом коллаже особенно бросается в глаза искривленная форма виселицы, сомнительная с Евклидовой точки зрения. Брейгелевский визуальный фокус можно считать своего рода символом синхронной физики с ее «параллелями, фантазиями, кощунствами». Метод синхронистов неоднократно разъясняется в книге на разные лады с помощью как научных терминов, так и художественных метафор, но каждый раз в последний момент ускользает от окончательного понимания — примерно как при попытках раз и навсегда уложить у себя в голове суть квантовой физики (кстати, в «Сороке…» встречается интригующая завязка анекдота: «Встречает как-то раз синхронный физик квантового…»).
Можно усмотреть определенное сходство между вырождающейся, топчущейся на месте лемовской «соляристикой» и забуксовавшей синхронной физикой как науками, потерпевшими фиаско в смысле отсутствия конкретного практического результата для человечества. У Лема по отношению к «соляристике» в солидных научных кругах употребляется слово «афера», у веркинских противников синхронной физики вокабуляр гораздо шире, разнообразней и экспрессивней. Как только ни называет Кассини ненавистную ему синхронную физику: «катаракта на глазах человечества», «постыдная болезнь современного общества», «уродливая мутация квантовой механики, улыбчивая юнгианская ломехуза, доппельгангер, эрзац доппельгангера», «кривоногий шаман вторичности, виртуоз суггестивного йодля, копромонгер, шулер со степенью, фигляр, фальшивый пророк-однодневка, свидетель деградации, интеллектуальный пигмей, сеятель мракобесия», «пигмей на доверии, коновал сомнительных практик, презренный тать-симулянт, роковой инкуб лженауки».
Этот словесный фейерверк восхищает героя, который сам имеет о синхронистике лишь приблизительное обывательское представление, и потому читателю, иногда теряющему нить научных рассуждений, легко и удобно идентифицироваться с Яном. Впрочем, размышления ученых мужей часто звучат довольно прозрачно, хотя и печально, как, например, слова Штайнера об одиночестве человека в его космической экспансии: «Здесь только мы, значит, всё это наше. Мы — мера всего, без нас в мире пусто и бессветно…»
Упрек в самоуверенности человеческой расе отчетливо слышен в «Сороке…», где неоднократно намекается на необходимость для homo sapiens все-таки признать ограниченность своих сил, но в то же время и на невыносимость такого признания. Этот вопрос в толстой книге неспешно рассматривается с разных сторон и проиллюстрирован разными случаями из жизни и научной практики, например печальной историей экспериментов с искусственным разумом, выращенным в пробирке, который предпочитает аннигилироваться, как только осознает свою конечность.
В размышлениях о границах человеческого познания Веркин кое-где пересекается с тем же Лемом как философ-футуролог. Однако преимущество русского писателя перед польским коллегой в том, что Лем творил во времена, когда в предположениях о будущем человечества, пусть даже высказанных в форме художественного вымысла, были не особенно приняты иронические интонации. В «Солярисе» он как будто сдерживает свое довольно едкое чувство юмора, Веркин же не скован никакими рамками и порой дает волю иронии настолько, что происходящее в «Сороке…» напоминает пародию на перегруженный религиозно-философской софистикой «Солярис», автору которого можно было бы переадресовать реплику веркинского трикстера, синхрониста Уистлера: «Не следует недооценивать карнавальности текущего бытия».